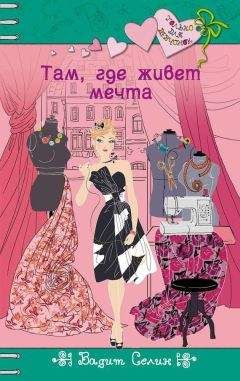Строитель тогда же припомнил, что в юности сочинял стихи, и на память прочел, спотыкаясь и кряхтя от смущения, стишок о ночном соловье в ракитах:
В ракитах щелкал соловей,
Бедный, заливался…
Гурин нашел, что стихи хоть и несовершенны по форме, но очень музыкальны, и тут же, в два приема разучив, прочел их сам — хорошо поставленным голосом, прочувствованно, пришептывая и закатывая глаза. Тянигин слушал свои — и словно бы не свои стихи, и едва не разрыдался: так они показались ему хороши. И он сказал, что если даже скромный стишок звучит в устах мастера столь прекрасно, то этот артист, значит, гениален. Совершенно искренне он принялся вслух делать предположения, какая Турина в будущем ожидает слава. И на это новый друг Тянигина отвечал, грустно улыбнувшись, что никакой славы и ничего вообще не будет, скорее вот эта бутылка превратится в живого соловья.
Тут Гурин поведал инженеру длинную «Повесть о мелком актере» — грустную повесть о зеленых надеждах юности, которые с годами, иззябнув на задворках искусства, сморщиваются и скручиваются в сухие трубочки тайного отчаяния, где лежит уже червячок тихого озлобления к судьбе и ко всему миру. И живому человеку ничего не остается, как махнуть на все рукою и принять — философически, стоически, тихо-мирно или с шумной пьяной амбицией — свое бедное ничтожество… Повесть о долгих скитаниях из труппы в труппу, о гастролях в захолустных краях, о толкучке на телевидении, где спектакли пекут, как блины, и едва успеваешь выучить роль до выхода в эфир: об утренниках в детских садах, куда под Новый год приезжают на такси платные Дед Мороз и Снегурочка, а сотни других точно таких же красноносых и нарумяненных Дедов и Снегурочек трясутся в машинах, потея под косматыми белыми париками, направляясь в другие места — приносить радость и веселье детишкам за определенный гонорар… Но вот, наконец, обретается постоянная тихая гавань приписки где-нибудь в областном или столичном театре, и определяется лицедею ставка чуть побольше, чем у дворника, но значительно меньше, чем у уборщицы в метро. И тут оказывается, что лицедей женат, у него дети и полжизни" еще в запасе, и эту половину надо как-то прожить.
— В общем, самое это распутное и распоганое дело, — подытожил свою исповедь актер. — Надо терпеть всех этих великих маразматиков, начальство от искусства, сносить все пакости, кланяться дураку и целовать ручку у заведомой простигоеподи, режиссерской фаворитки, иначе накукует на тебя, и будешь всегда играть каких-нибудь чурбанов, которым отпущена в пьесе всего одна реплика: «Кушать подано-с!..» А ведь мог бы и я, Данилыч, взять да и сыграть Гамлета не хуже Смоктуновского… Вот знаю, здесь знаю, — постучал он рукою по сердцу, — что смог бы, да только ни разу фортуна не дала, Лёнчик… Можно, буду я так звать тебя, ты не обидишься?
— Можно, — рассеянно разрешил Тянигин, потупившись, думая о своем. — Но почему? — вдруг рявкнул он. — Почему? Ведь ты талант, Юра? Неужели же талант не может того… а, Юра?
— Выходит, не может.
— Почему?!
— Сам не знаю, — последовал ответ. — Наверное, когда господь бог замешивал тесто для искусства, черт расстегнул ширинку и побрызгал туда. Живут одни знаменитые, Лёнчик, всякие заслуженные и перезаслуженные, а таким букашкам, как я, — хлеб да квас.
— Неверная установка! — гремел Тянигин. — Должно быть какое-то разумное нормирование и экономически оправданная шкала оплаты! Я против того, чтобы платили, понимаешь ли, за одно звание, а не за труд. Вот ты, Петя, или ты, Ваня, — сыграл роль талантливо, на «ура», — вот и получай прогрессивку! А то где же и в чем стимул для трудяги артиста?! А платить за твою знаменитость — это, паря, несправедливо как-то.
— Нет, наверное, все же справедливо, — возражал Гурин. — Знаменитости, Лёнчик, это счастливчики. А счастье их в том, что им однажды удается хорошо сыграть какую-нибудь хорошую роль. С того времени и идет — им дают следующую хорошую роль и так далее. Без великих ролей не было бы великих актеров. И поверь мне, что многие другие могли бы сыграть эти роли не хуже, но им не дает фортуна. И дело вовсе не в том, заслуживают ли эти счастливчики своего счастья или нет. Играет такой, например, всю жизнь Чацкого или Гамлета, а сам, может быть, и ногтя не стоит того же Чацкого или Гамлета, сам куркуль какой-нибудь или распутник, девочек молодых совращает — но именно его работа и есть настоящая!. Ведь благодаря ему Принц Датский может поучать людей, это, Лёнчик, и есть настоящий труд актера, и вот за это ему щедро воздается, и тут все вполне справедливо. А если, скажем, всю жизнь играть каких-нибудь мальчиков, зайчиков или старых хрычей-слуг, или какого-нибудь третьего солдата стражи? Да какой же это труд? Так, баловство одно. Словом, Леша, играем мы в игрушки, не делом занимаемся, а за игрушки чего же много платить? Так — кормить, поить, одевать еще надо. Без этого и лицедей ноги протянет. И не смей, подлец, ни жениться, ни детей иметь! Будь вроде монаха, раз тебе в искусстве быть захотелось. А не нравится такая доля — иди к другим и займись вместе с ними настоящим делом: хлеб выращивай, строй дома, одежду шей. Вот они-то имеют право требовать себе хорошей жизни, и детей плодить, и есть-пить в свое удовольствие, потому что они есть сама основа общей человеческой жизни. Им и покой на душе…
На все это Тянигин не нашел что возразить: все выходило вроде бы так, как он и сам считал. Но было необыкновенно жаль этого артиста, и чувствовал Тянигин, что перед ним хороший, справедливый человек, и хотелось снять с его узких, тревожно вздернутых плеч некий невидимый груз несчастья, неудач и гнетущих сомнений.
— И дошел я в своей жизни до критической точки, Алексей Данилыч, — продолжал между тем исповедоваться Гурин. — Стена передо мною: вот дуну так: фу! — и чувствую — стена… Тяжко мне дается каждый день, мой дорогой. Хотел я в жизни сначала быть художником, в художественное училище поступил, а затем бросил и поступил в Щукинское, на актера решил учиться… Писал я и стихи, как ты, Данилыч, и ни в одном из этих дел не преуспел. Почему? Я и сам не знаю. Может быть, дороги эти всегда были трудными — ив наше время тоже, а я оказался слаб. Хотя бог меня талантами не обидел. Дошел я теперь до мертвой точки: ни взад, ни вперед. Кто и что меня сдвинет? Одно я знаю, что если и есть еще для меня спасение — так это бросить все и найти себе настоящее дело. Понимаешь, Лёнчик, настоящее! Хоть переплетчиком, хоть гвозди забивать в подметки, но только чтобы руками, чтобы плечи болели от работы и чтобы после спалось ночью спокойно…
И вот тогда-то Тянигин сказал, яростно подергав себя за нос и тряхнув головою, словно сгоняя с себя мух:
— Ладно. Приезжай ко мне в Сарым, дело для тебя найдется. Это я тебе обещаю. Конечно, если ты серьезно надумал, если и на самом деле не можешь больше на своем поприще… и вообще.
— Не могу! Абсолютно не могу, — уверял Гурин, прижимая к груди руку с растопыренными пальцами. — А что у тебя я буду делать? — спросил он, оживляясь.
— Ну, в ПМК дело найдется. Подыщем в соответствии, — обещал Тянигин.
— Пэ-эм-ка, — по слогам, словно пробуя на вкус каждый слог незнакомого, но упоительного слова, произнес Гурин и, потянувшись, обнял Тянигина и поцеловал его. — Ладно, дружочек. Славно-то как! Вот скоро дойду до кондиции и решусь. Договорились… А что это за край, куда ты меня зовешь?
— Сарым? Это между Чикаго и Завалуйками, не доезжая Африки, — с улыбкой отвечал Тянигин. — Небольшая автономная область.
— И чем интересна?
— Приедешь, сам увидишь. Чудес у нас хватает, — интриговал Турина Алексей Данилович. — Сказочная страна и, впрочем, богатейшая по запасам ртути и асбеста. По степям бегают дикие яки и верблюды. Хариусов руками ловим. Конечно, и у нас своих проблем хватает. Комиков всяких много, таких вы здесь, в столице, редко увидите. К нам ведь кто приезжает, паря? В основном люди рисковые, вербованные, отсюда и элементов много, как это пишут в газетах, нежелательных для нашей действительности. Вот и боремся с ними как можем, разгребаем всякую судаковщину, которая мешает нам нормально работать.
— Что это за судаковщина такая, Леша? — поинтересовался Гурин.
— Да это я вспомнил одного чудика своего… Прорабом у меня работает. Ох и кушаю я от него, а избавиться не могу — нету специалистов, паря, не с кем работать. Представь себе, что Судаков этот однажды учудил. По пьянке влез на бульдозер вместо бульдозериста: мол, покажу работу — и свалил машину в котлован. Жив остался, ничего с ним не сделалось. Ну, доложили мне, приезжаю к нему на участок — а он сидит в прорабской с гипсовой штаниной на ноге. Мол, виноват, да вот покалечился, однако поста своего не покинул, болею за производство. Что ты с ним поделаешь? Как взыщешь с такого героя? Погнал домой — нет, уперся. Плюнул я и уехал, затем вспомнил одно дело и с полдороги вернулся. Захожу в контору, а он сидит, вынул ногу из гипсового обрубка и греет ее у печки. Замотал, подлец, гипс нарочно пошире — уговорил свою супруженцию, которая медсестрой работает. Никакого, конечно, перелома не было — спектакль устроил, чтобы, значит, разжалобить начальство.
![Анатолий Ким - Будем кроткими как дети [сборник]](https://cdn.my-library.info/books/149231/149231.jpg)